Франсиско Мансилья Карамес
Родился в Мадриде. Остался в России.
Я родился в очень бедной семье, у меня отец почти всегда был без работы. И как раз когда началась гражданская война в Испании, меня взяли в детский дом. Из 5 ребят, которые были у моей мамы, взяли одного меня. Детские дома организовывались республиканским правительством на разных уровнях в разных городах Испании. Я из Мадрида, и меня прикрепили к детскому дому в Мадриде. Очень хороший детский дом, я впервые там спал на простынях, с пижамой — в общем, были все условия великолепные. Потом франкистские войска подходили к Мадриду, и нас эвакуировали в Валенсию. Основной точкой защиты республики в Испании был Мадрид, о нем писали стихотворения, пламенные речи. Мадрид защищался до последнего. Но пришел момент, когда он уж не мог держаться, потому что Франко разделил Испанию на несколько зон. И Мадрид остался без помощи извне — город сдался в апреле 1939 года.
Родился в Мадриде. Остался в России.
Я родился в очень бедной семье, у меня отец почти всегда был без работы. И как раз когда началась гражданская война в Испании, меня взяли в детский дом. Из 5 ребят, которые были у моей мамы, взяли одного меня. Детские дома организовывались республиканским правительством на разных уровнях в разных городах Испании. Я из Мадрида, и меня прикрепили к детскому дому в Мадриде. Очень хороший детский дом, я впервые там спал на простынях, с пижамой — в общем, были все условия великолепные. Потом франкистские войска подходили к Мадриду, и нас эвакуировали в Валенсию. Основной точкой защиты республики в Испании был Мадрид, о нем писали стихотворения, пламенные речи. Мадрид защищался до последнего. Но пришел момент, когда он уж не мог держаться, потому что Франко разделил Испанию на несколько зон. И Мадрид остался без помощи извне — город сдался в апреле 1939 года.
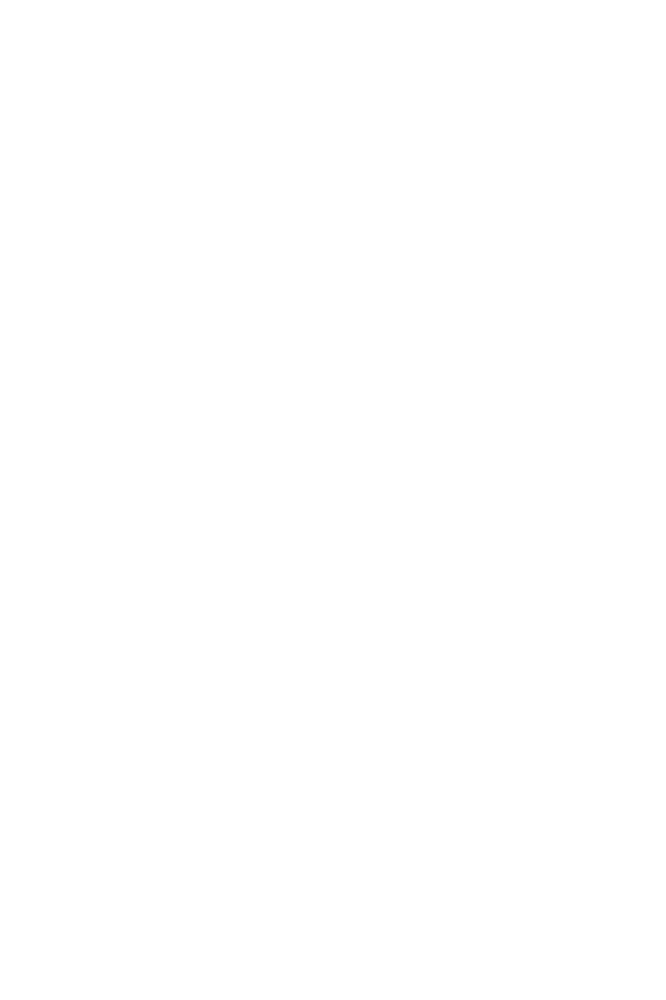
Франсиско Мансилья Карамес
Родился в Мадриде. Остался в России.
Я родился в очень бедной семье, у меня отец почти всегда был без работы. И как раз когда началась гражданская война в Испании, меня взяли в детский дом. Из 5 ребят, которые были у моей мамы, взяли одного меня. Детские дома организовывались республиканским правительством на разных уровнях в разных городах Испании. Я из Мадрида, и меня прикрепили к детскому дому в Мадриде. Очень хороший детский дом, я впервые там спал на простынях, с пижамой — в общем, были все условия великолепные. Потом франкистские войска подходили к Мадриду, и нас эвакуировали в Валенсию. Основной точкой защиты республики в Испании был Мадрид, о нем писали стихотворения, пламенные речи. Мадрид защищался до последнего. Но пришел момент, когда он уж не мог держаться, потому что Франко разделил Испанию на несколько зон. И Мадрид остался без помощи извне — город сдался в апреле 1939 года.
Родился в Мадриде. Остался в России.
Я родился в очень бедной семье, у меня отец почти всегда был без работы. И как раз когда началась гражданская война в Испании, меня взяли в детский дом. Из 5 ребят, которые были у моей мамы, взяли одного меня. Детские дома организовывались республиканским правительством на разных уровнях в разных городах Испании. Я из Мадрида, и меня прикрепили к детскому дому в Мадриде. Очень хороший детский дом, я впервые там спал на простынях, с пижамой — в общем, были все условия великолепные. Потом франкистские войска подходили к Мадриду, и нас эвакуировали в Валенсию. Основной точкой защиты республики в Испании был Мадрид, о нем писали стихотворения, пламенные речи. Мадрид защищался до последнего. Но пришел момент, когда он уж не мог держаться, потому что Франко разделил Испанию на несколько зон. И Мадрид остался без помощи извне — город сдался в апреле 1939 года.
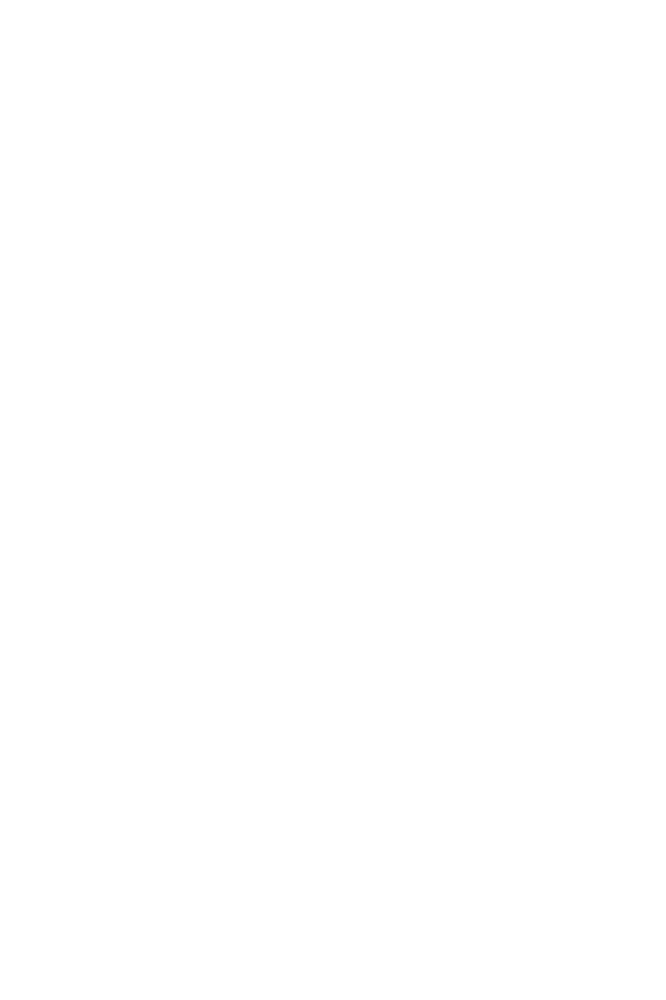
Об отъезде в СССР, жизни в детских домах на Пироговской улице и в Обнинске
В 1937 году к нам в детский дом пришел русский танкист. Он был то ли генералом, то ли полковником, и сказал: «Кто хочет ехать в Советский Союз?» Ну, мы все подняли руки. Но надо было иметь разрешение от родителей. Нас в этом детском доме было 40 человек, родители разрешили только семерым выехать в Россию, остальные отказались. Ну мои родители, я считаю, были рады — потому что одним ртом меньше, а тут одного человека заберут. Мой отец идеологически был коммунистом. «Россия это рай пролетариата», — он так и говорил. Но он не знал, что настоящий рай совсем другой.
И вот меня привезли в Россию с согласия родителей, в Артек. Точнее, это был не сам Артек, а Гурзуф. Мы пели: «У Артека на носу приютился Гурзуф». Мы жили во дворцах — бывшие царские дачи. Самую лучшую часть Артека дали нам. Мне воспитатель говорит: «Франсиско, ты в совет». Я говорю: «No, no soy Soviet, soy Español». Никак не мог разобраться, что это, а потом понял — совет отряда — вот в чем дело! Я был председателем. Мы в Артеке прожили почти 6 месяцев, пока не пришел сентябрь. И нас привезли в Москву. Нас встречала на вокзале толпа народу.
Есть снимок, где мы на поезде с испанским знаменем смотрим на эту толпу, которая кричит: «No pasaran, no pasaran!». Цветы, конфеты нам давали — в общем встреча была удивительная.
Есть снимок, где мы на поезде с испанским знаменем смотрим на эту толпу, которая кричит: «No pasaran, no pasaran!». Цветы, конфеты нам давали — в общем встреча была удивительная.
Нас привезли на улицу Пироговская д.7 — там сейчас посольство Вьетнама — и недалеко оттуда сняли дом-школу. Из этой школы российских школьников перевели на второй этаж, а нас оставили на первом. Этой школы больше нет, но остался парк — сад Мандельштама. Детский дом имел небольшую зону, мы там могли только играть в футбол, а гулять нас отводили воспитатели в этот парк. Мы там проводили почти все время, на коньках катались, на лыжах. Вся жизнь была в этом парке, это было 5 шагов от дома.
Кормили нас очень хорошо. Я никогда так не питался, как там, и не буду больше никогда питаться, по-моему. В Артеке тоже очень хорошо кормили. Я был очень худой, помню, весил 20 кг. Врачи удивлялись моей худобе, стали меня кормить, но как бы меня ни кормили, я все равно не поправлялся. Потому что я все время бегал, все время на качелях катались, какое там толстеть — наоборот я худел.
Мы начали учиться в школе, нас отводили туда воспитатели. В 1939 году или в 1940 году были дни очень холодные, морозные, и нас в этот день не выпускали на улицу. Мы оставались в детском доме. Так мы жили, пока не началась война.
Мы начали учиться в школе, нас отводили туда воспитатели. В 1939 году или в 1940 году были дни очень холодные, морозные, и нас в этот день не выпускали на улицу. Мы оставались в детском доме. Так мы жили, пока не началась война.
Я уже в Испании умел умножать и делить, делать операции с дробями. Читал великолепно, потому что я научился читать очень рано. Со мной поступили, может, правильно, а может, неправильно, но когда решали, кого в какой класс из нас определить, меня экзаменовала группа испанских и русских воспитателей, и определили меня в 1-й класс. А мне уже было 11 лет. Так что когда началась война, я поступил в 5-й класс, отставал почти на 3 года от остальных.
Наши ребята начали взрослеть, некоторые уже 7-й класс кончили и должны были поступить в техникумы. Тогда создали два дома молодежи для испанцев: один в Ленинграде, второй в Москве. Наш дом на Пироговской в Москве отдали под дом молодежи, а я попал в Обнинск. В Обнинске, кончено, было уже хуже, чем на Пироговской. На Пироговской были, во-первых, дети всех руководителей Испании, компартии особенно — правительственные дети. Я попал туда случайно, потому что я из Мадрида. Там было около 100 детей, детский дом был маленький, а в Обнинске — больше 400 ребят.
В Обнинске создали музей и памятник испанским детям, очень хороший. Мы были на открытии, вспоминали те времена, когда были испанские дети в этих домах. Этот детский дом уже не детский дом, там ядерный институт какой-то. Мы хотели войти, но нас не пустили, потому что это секретный объект. Мы не смогли попасть в наши комнаты, где мы спали.
Об особом отношении к испанским детям
В детском доме не допускали до нас русских детей — это вообще безобразие! Мы с ними встречались на ёлке в Доме Союзов. Я никогда не забуду: русским запрещено было трогать игрушки на ёлке, а мы их трогали, и нам ничего не говорили. Мы даже снимали — и то ничего не говорили. А русских ругали, я помню. Там были разные аттракционы. Например, завязывали глаза и нужно было резать конфеты — так нам подносили конфеты под нос! Так что мы приходили набитые конфетами. Общение с русскими тогда было постольку поскольку — мы не говорили по-русски, они не говорили по-испански. Но мы дружили как-то.
Нас водили в кинотеатры. У Дома на набережной был большой-большой кинотеатр с балконами, и там нам кидали конфеты и деньги. Я там набрал 7 рублей! Никогда не забуду! На Кировской [сейчас Мясницкая] в кинотеатр мы ходили группами с воспитателем, человек по 30−40.
Помню, нам принесли мороженое в стаканчиках и начали раздавать. Мы удивились. И потом я узнал, что это посетители собрали деньги — так как мы не покупали мороженое, они купили и раздали нам мороженое.
Помню, нам принесли мороженое в стаканчиках и начали раздавать. Мы удивились. И потом я узнал, что это посетители собрали деньги — так как мы не покупали мороженое, они купили и раздали нам мороженое.
Так что ни один испанец ничего плохого о России не скажет. Народ относился к нам великолепно. Это незабываемо, что вы!
О начале войны и эвакуации в Базель, деревню немцев Поволжья
Началась война в июне в 1941 года. Ну тут вина, конечно, Сталина, потому что он арестовал весь командный состав. Была чехарда какая-то невозможная, это ужасно. И мы удивились, потому что говорили, что война будет не на территории Советского Союза, а на территории противника. Но все перевернулось наоборот: война шла на территории Советского Союза, войска отступали. И так быстро отступали, что в сентябре нас эвакуировали. Очень быстро шли немцы.
Эвакуировали на теплоходах по Волге до Саратовской области, где жили немцы Поволжья. Но, когда мы приехали, немцы Поволжья были спровоцированы тем, что они хотели перейти на сторону гитлеровцев — ну это по сталинской теории. Но на самом деле это неправда. Потому что немцы Поволжья так хорошо жили, что им нечего думать было против Советского Союза. Мы приехали в деревню Базель, я там начал учиться в пятом классе. Мы учились в избах у немцев.
Когда мы приехали, коровы все ходили без привязи, мычали. Дирекция нас собрала и говорит: «Надо доить коров». Мы доили на пол, потому что некуда было молоко деть.
Когда мы приехали, коровы все ходили без привязи, мычали. Дирекция нас собрала и говорит: «Надо доить коров». Мы доили на пол, потому что некуда было молоко деть.
И я в этой деревне прожил до февраля, пока кто-то не написал письмо Долорес Ибаррури с просьбой облегчить нашу участь. Много детей умерло в этих деревнях у немцев. Мы голодали, но могли питаться, потому что все дома и церкви были набиты пшеницей, кукурузой, семенами подсолнуха. Мы воровали, правда, но питались. Ну, не по карточкам. По карточкам положено было тогда детям, по-моему, 350 г хлеба, но нам даже 200 г не давали. Кто-то написал Долорес Ибаррури о том, что мы умираем с голода, живем очень плохо, и она ответила нам, что меньше надо думать о макаронах, а больше думать об учебе. Ну, я думаю, все-таки сигнал какой-то поступил, потому что в феврале к нам приехала комиссия из Наркомпроса. Приехали они, посмотрели, как мы живем, и решили, что как-то спасать детей надо.
О работе на военных заводах в Саратове и Грузии
И вот дали приказ, и некоторых отправили на работу на военных заводах в Саратов. С этой партией из примерно 40 детей я и вышел. Это было в феврале 1942 года — уже немцы были разбиты под Москвой, и немного легче стало жить.
Нас отправили пешком до вокзала, 30 км. Это было зимой, очень холодно. Мне натерли валенки на коленях до крови, меня там лечили. Мы сели на поезд — и в Саратов. В Саратове у нас началось фабрично-заводское обучение, дали койку каждому и питание. Завтрак — 200 г хлеба, потом чай или кашу какую-то давали, на обед тоже давали 300 г хлеба. Всего нам давали 700 г хлеба, как рабочим. Мы уже стали учениками на заводе, поэтому и норма была рабочая. Это для нас было удивительно! Хлеб в Базеле был иногда, а так пшеницу варили нам, кукурузу. А тут даже сахар получали — то, что мы уже не видели давно.
Меня поставили работать на штамповке. Это были гигантские станки гидравлические, с такими толстыми веревками, которые надо было поднимать — ударяли и получали штампы. Я делал баки для горючего для самолетов, но еле-еле держал эту веревку, потому что был очень хиленький. Ну не только я, но я хилее всех был, по-моему. И рабочие меня жалели, они никогда не заставляли меня работать [на станках], а давали вспомогательные работы — я помогал им таскать чего-то.
В июне мы кончали учебу, она шла 4 месяца. И пришел указ из Наркомпроса о том, чтобы нас перевести в Тбилиси, опять на пароходе. Немцы делали что хотели. Они бомбили всё кругом. Река горела. Дым стоял, потому что бомбили баржи с нефтью, которые вспыхивали, как спичка. Но нас всегда ночью вытаскивали с парохода — если разбомбят, то мы на берегу. И поэтому мы великолепно доплыли. В дороге мы ни разу не чувствовали голод. С нами ехал инспектор из Наркомпроса, который имел какие-то полномочия, и нам давали еду: хлеб, колбасу. Всегда был чай — кипятка было на пароходе сколько хочешь.
Приехали мы в Баку, там нас посадили на поезд до Тбилиси. А в Тбилиси — опять на завод, есть такой завод № 31 имени Дмитрова. Как штамповщика третьего разряда, меня опять поставили на штамповку, но уже станки другие, небольшого размера. Мне тут же дали рабочего, который научил меня работать на этих станках. Мы работали в 2 смены по 12 часов, то есть начинали в 6 и кончали в 6. В основном я делал шайбы для гаек самолета.
Однажды я работал ночью, уснул и у меня рука попала в станок. И вот у меня до сих пор палец травмированный. Но меня вылечили — тут же отвезли в поликлинику, тут же дезинфицировали, тут же забинтовали, и я отдохнул 15 дней. Великолепно, больничный! Это единственное несчастье, которое случилось со мной во время войны.
Однажды я работал ночью, уснул и у меня рука попала в станок. И вот у меня до сих пор палец травмированный. Но меня вылечили — тут же отвезли в поликлинику, тут же дезинфицировали, тут же забинтовали, и я отдохнул 15 дней. Великолепно, больничный! Это единственное несчастье, которое случилось со мной во время войны.
Мы жили в общежитии, оно было внутри завода. Запрещено было на военных заводах держать общежития, но нас держали, так что нам не надо было ни на трамвай, ни на автобус. Прямо выходили из общежития на завод. Перед концом войны — уже наши должны были захватить Берлин — нас решили вывезти из этого общежития и дали общежитие в Тбилиси. Вот тут настали наши трудности. Потому что нам приходилось ехать на поезде, а поезд был набит всегда рабочими. Мы все как-то старались попасть в вагон. Там погибло несколько наших ребят под поездом. Встречные поезда с проволоками — цеплялись и, конечно, насмерть.
О случае с ботинками в Тбилиси
Я никогда не забуду: когда я работал в Тбилиси, иногда Красный Крест нам помогал кое-какими карточками. По ним давали ботинки, брюки, рубашки. По обычным карточкам не давали ничего кроме продуктов — хлеб, масло подсолнечное, сахар, печенье. Остальное все надо было принюхиваться, где продается, а где нет.
Меня Красный Крест вызвал и говорят: «Мы тебе даем талон на ботинки». У меня ботинок не было, я разутый ходил — привязывал мои ботинки проволоками. Я пришел в магазин, даю этот талон, продавец посмотрел на меня — я полураздетый, полубосой. «А для чего вам ботинки?» — говорит. «Я хочу продать их» — отвечаю. И мне дали ботинки.
Какие это были ботинки! Модельные! Шик последний.
Какие это были ботинки! Модельные! Шик последний.
Я пришел на рынок в Тбилиси. Показываю ботинки. Тут же ко мне кинулись грузины-спекулянты: «Почем ботинки?» Я говорю: «7 тысяч». В те времена 7 тысяч это моя зарплата годовая почти. Я даже сам испугался. А они не испугались: «7 тысяч, ну давай». Они у меня взяли ботинки, отвели меня в угол какой-то. У меня рубашка была, и они все деньги без счета закидывали мне в рубашку. Я не считал. Подумал: ну наверное, меня обманули, надули будь здоров.
“
Я наелся, обулся, оделся — купил себе брюки, рубашку, ботинки, телогрейку, майку. Пришел домой и начал считать, сколько я истратил. И они дали мне не 7 тысяч, а дали больше, чем 7 тысяч! Удивительно — они меня могли обмануть, как хотели. Потом я еще жил на эти деньги, не продавал хлеб во всяком случае. В Тбилиси хорошо было — во время войны все продавалось на рынке. Яблоки, груши, абрикосы, персики, помидоры, огурцы. В России умирали с голоду, а там изобилие неимоверное.
“
Я наелся, обулся, оделся — купил себе брюки, рубашку, ботинки, телогрейку, майку. Пришел домой и начал считать, сколько я истратил. И они дали мне не 7 тысяч, а дали больше, чем 7 тысяч! Удивительно — они меня могли обмануть, как хотели. Потом я еще жил на эти деньги, не продавал хлеб во всяком случае. В Тбилиси хорошо было — во время войны все продавалось на рынке. Яблоки, груши, абрикосы, персики, помидоры, огурцы. В России умирали с голоду, а там изобилие неимоверное.
О возвращении в Москву после войны
Пока мы жили в этом общежитии, советские войска уже окружили Берлин. Мы так радовались все, что вот-вот война кончится. И действительно: наступило 9 мая, когда кончилась война, и нас всех эвакуировали в Москву.
Я работал сперва на авиационном заводе № 43. Потребовал, чтобы со штамповки меня сняли, а сделали строгальщиком. И я стал работать на строгальном станке, получил пятый разряд и с этого завода нас почему-то решили перевести на другой завод — завод внутришлифовальных станков № 221.
Я зарабатывал очень мало, в основном жил за счет продажи хлеба. У меня было 700 г хлеба, я съедал 300 г, а 400 г продавал на рынке. Тогда все продавали хлеб и жили за счет хлеба.
Я зарабатывал очень мало, в основном жил за счет продажи хлеба. У меня было 700 г хлеба, я съедал 300 г, а 400 г продавал на рынке. Тогда все продавали хлеб и жили за счет хлеба.
Но надо было иметь деньги, а денег у меня никогда не было, потому что я получал 300−400 рублей, когда рабочие зарабатывали 2000. На 300 рублей не проживешь. До сих пор я сейчас спрашиваю: почему же сделали нормы для детей одинаковыми с нормами взрослых? Это меня удивляет. Это нельзя было делать. Ну сделали, так надо было. Главное, что мы победили немцев. Немецкие войска были разгромлены. Притом, я считаю, что победу одержал советский народ. Не какой-то Сталин, а советский народ. Ну тут, конечно, был и Жуков, и другие маршалы, которые очень умно руководили войсками. Победа досталась очень тяжело.
Об учебе в сельхозтехникуме в Коломне
Я начал думать об учебе. Я же никто. Штамповщиком не хочу быть. И я поступил в вечернюю школу русскую. Поговорил с директором, у меня не было документа, что я окончил 5-й класс, потому что я кончал его в деревне немцев Поволжья. Он мне сказал: «Поступай на 6-й, мы тебя примем». И действительно, пошли мне навстречу. Я кончил 7-й класс и решил уйти в техникум учиться, среднее образование получить. Поступил в Коломенский сельхозтехникум на агрономический факультет. Меня приняли без экзаменов почти — экзамены были, но очень легкие, потому что тогда был приказ Сталина о том, что испанские дети поступают без конкурса. Я выучился в этом техникуме по специальности «агроном плодоовощевод».
Я был безработный некоторое время. Не мог жить — мне спать негде, у меня нет квартиры, ничего нету. Я же голый, можно сказать. Тогда я пришел в областное Управление сельского хозяйства в Москве. Сказал, что кончил техникум и мне надо работать, и меня направили в Коломну. Я так обрадовался, я ведь там и учился!
Приехал в коломенский район в райисполком. Они мне тут же нашли председателя колхоза, и за меня взялись. Это было трудно, потому что я был иностранец, без гражданства. Не русский, не испанский и не советский. Меня взяли в колхоз, и я там прожил с 1949 по 1953 год, почти 5 лет там проработал.
О случае с 10 тоннами зерна и капустой
Во всех колхозах ко мне относились просто великолепно. Никогда не забуду случай: я поступил в колхоз работать агрономом и как-то звонят из райкома партии. Рассыльная говорит: «У нас председателя нет на месте, есть агроном». «Ну, дайте агронома», — говорят.
Я взял трубку: «Сколько у вас зерна на складе?» И я, дурак, я же был комсомолец, я же не мог обманывать партию, говорю:
— 10 тонн зерна.
— Как 10 тонн? Вы должны сдать его государству.
— Почему должны сдать? Мы же выполнили госпоставки!
— Это не имеет значения.
Приходит председатель. Он меня так ругал, что я сказал, что 10 тонн. Я же не знал — первый раз.
— 10 тонн зерна.
— Как 10 тонн? Вы должны сдать его государству.
— Почему должны сдать? Мы же выполнили госпоставки!
— Это не имеет значения.
Приходит председатель. Он меня так ругал, что я сказал, что 10 тонн. Я же не знал — первый раз.
На всю жизнь запомнил, что партию надо обманывать. Иначе не проживешь.
На всю жизнь запомнил, что партию надо обманывать. Иначе не проживешь.
На следующий день вызывают нас в партийное бюро в Коломне. Сели мы на лошадку, поехали в Коломну, а там сидят уже прокурор и начальник милиции. Они меня вызывают, и секретарь райкома говорит:
— Вот гражданин Мансилья не хочет сдавать 10 тонн.
— Я хочу, но мы же уже выполнили поставку.
— Видишь, товарищ не понимает. Он смотрит с колхозной колокольни, а надо с государственной. Он же должен представлять нас, а он наоборот защищает колхоз.
— Как же, мне же с людьми работать.
— Видите, как он рассуждает, не как колхозник совсем. Подпиши бумагу, что сдаешь.
— Я не буду подписывать.
— Ну тогда выходи.
— Вот гражданин Мансилья не хочет сдавать 10 тонн.
— Я хочу, но мы же уже выполнили поставку.
— Видишь, товарищ не понимает. Он смотрит с колхозной колокольни, а надо с государственной. Он же должен представлять нас, а он наоборот защищает колхоз.
— Как же, мне же с людьми работать.
— Видите, как он рассуждает, не как колхозник совсем. Подпиши бумагу, что сдаешь.
— Я не буду подписывать.
— Ну тогда выходи.
Вызывают председателя, совещаются о чем-то, председатель выходит и говорит: «Франсиско, иди подпиши, а то тебя по этапам отправят. Я подписал ради тебя, иди. Больше так не делай». И я подписал. 10 тонн забрали на следующий день. Оставили колхозников без хлеба на год. Мы 200 г хлеба и то не могли дать. Что такое 200 г, когда по карточкам давали 500−700 гр.?
Вызывают председателя, совещаются о чем-то, председатель выходит и говорит: «Франсиско, иди подпиши, а то тебя по этапам отправят. Я подписал ради тебя, иди. Больше так не делай». И я подписал. 10 тонн забрали на следующий день. Оставили колхозников без хлеба на год. Мы 200 г хлеба и то не могли дать. Что такое 200 г, когда по карточкам давали 500−700 гр.?
Я сидел и ломал голову: как помочь этим людям? Они же ничего не получили. У меня была капуста. Мы уже поставки по овощам выполнили, а по уставу сталинскому, если ты сдал тонну, то можешь 100 кг продать на рынке. Я подхожу к председателю и говорю: «Слушай, у нас капусты много осталось, мы можем 10% продать на рынке или раздать колхозникам на трудодни». «Ты что?», — говорит. «Ты посмотри устав!», — отвечаю. Бухгалтер посмотрел устав — действительно 10%. Он тут же составил ведомость и раздали, помню, по 16 кг капусты. А килограмм капусты в те времена был 4 рубля, дорогой очень. Капусты было много, у нас огромная пойма на реке Оке.
Колхозники такие радостные, все забыли про мои 10 тонн. Я так радовался — хоть спас чем-то людей. Все получили капусту и продавали на рынке. Мне председатель колхоза вызвал бригадира и говорит: «Загрузи капустой машину и продай для Франсиско». Мне привезли такую кучу денег! Я оделся и обулся на всю жизнь, по-моему. Отношение было незабываемое! Если бы я сказал, что одной машины мало, он бы дал мне две машины.
Ну, а потом я старался обманывать, где мог. К первому мая надо было закончить сев, чтобы рапортовать в ЦК. Не учитывали, дождь, не дождь. Я отрапортовывался, меня хвалили: «Мансилья первый кончил сев». Я кончил сев, конечно, но у меня еще сеяли. Ой, что вы, были времена такие дай бог всем.
О поступлении в Тимирязевку
В 1953 году я решил учиться: пошел в Тимирязевку, получил высшее образование. Я сдал экзамены на заочное, на тройки, конечно, но, так как я был агроном, меня приняли. Выучился один год на заочном и решил перейти очно учиться. На очном учились испанцы, и они говорят: «Что ты учишься на заочном?» На очном давали очень хорошую стипендию, 500 рублей.
Я в коломенском колхозе получал 500 рублей зарплату и был единственным, который получал зарплату каждый месяц. Откуда колхоз вытаскивал деньги, я не знаю, но мне каждый месяц давали 500 рублей. Мало этого — я приезжал на учебу, меня приглашали на сессии, так колхоз оплачивал мне все расходы, квартиру. Я до сих пор удивляюсь, как ко мне отнеслись. Я уже даже стеснялся говорить об этом с другими агрономами, потому что они ничего не получали — в колхозе не было денег. Были нищие колхозы, ну нечего было платить. И не платили, но люди работали — на энтузиазме, можно сказать. Ну, а мне платили.
Я решил перейти на очное, пришел к декану факультета экономики сельского хозяйства, показал документы, что я кончил техникум. И он говорит:
— Хорошо, сдавай экзамен на общих основаниях.
— Почему я должен сдавать экзамен? Я же кончил техникум.
— Нет, сдавай экзамен на общих основаниях, у меня нет мест.
Он отказался категорически. Это был единственный человек, который меня обидел. А до этого все шло, как по маслу. Куда я ни приду — испанец и все ворота открыты.
— Хорошо, сдавай экзамен на общих основаниях.
— Почему я должен сдавать экзамен? Я же кончил техникум.
— Нет, сдавай экзамен на общих основаниях, у меня нет мест.
Он отказался категорически. Это был единственный человек, который меня обидел. А до этого все шло, как по маслу. Куда я ни приду — испанец и все ворота открыты.
В электричке ловили меня без билета. Контролеры смотрели на мой паспорт без гражданства: «Испанец? Открыть дверь, пропустить его».
В электричке ловили меня без билета. Контролеры смотрели на мой паспорт без гражданства: «Испанец? Открыть дверь, пропустить его».
Они меня уже знали и не трогали. Из Коломны в Москву стоило доехать 14 рублей, а я получал стипендию 140 и не мог платить за билет. Никогда не забуду, это так здорово было! Они ко мне относились великолепно, я вам скажу.
Я сдавал экзамен на общих основаниях. Профессора Тимирязевского, когда видели, что я опять сдаю экзамены вступительные, говорили: «Ты же сдавал недавно, у тебя какая отметка там была, 5?». И ставили мне 5. Физика — 5, химия — 5. Я сдавал русский язык письменно, и мы там с другими испанцами схалтурили: с русскими девушками договорились, и они готовили нам сочинения. То есть вышел в туалет, сказал, какое сочинение, и мне дали сочинение готовое — мы переписывали. Я получил 4 и когда пришел сдавать русский устный, экзаменатор мне говорит: «Слушай, ты так плохо говоришь по-русски, с таким акцентом, и у тебя 4 за сочинение? Не может быть, не верю. Я не хочу тебя сейчас экзаменовать, но я уверен, что если проверю, у тебя двойка будет. Я тебе поставлю по русскому 3 за устный и 3 за письменный. Согласен?» Ну я говорю: «Ладно, делайте, что хотите».
Думал, меня примут все-таки — я же агроном. У меня было 15 очков, а надо было 20 очков набрать. В списках меня не было, и я пришел к декану. Говорю:
Думал, меня примут все-таки — я же агроном. У меня было 15 очков, а надо было 20 очков набрать. В списках меня не было, и я пришел к декану. Говорю:
— Почему вы меня не приняли, у меня же кроме русского все остальные четверки и пятерки?
— Сколько лет вы в Советском Союзе?
— 15 лет.
— За 15 лет можно было выучить вот так русский язык. Поэтому я не примувас. У вас тройки. Не проходите по баллам.
— Сколько лет вы в Советском Союзе?
— 15 лет.
— За 15 лет можно было выучить вот так русский язык. Поэтому я не примувас. У вас тройки. Не проходите по баллам.
Я выхожу, а там сидит секретарша и говорит: «Вы испанец? Идите в 1-й отдел». Я пришел с документами, а там сидит дядя. Я говорю:
— Я испанец, вот мои документы.
— Вы приняты на 1-й курс. Есть приказ Сталина о том, что испанцев надо принимать без экзаменов, без конкурса.
— Хорошо, а стипендию мне будут давать?
— Это не волнуйся, Советский Союз платит тебе стипендию.
— Я испанец, вот мои документы.
— Вы приняты на 1-й курс. Есть приказ Сталина о том, что испанцев надо принимать без экзаменов, без конкурса.
— Хорошо, а стипендию мне будут давать?
— Это не волнуйся, Советский Союз платит тебе стипендию.
О работе в Министерстве сельского хозяйства и шпиономании
Я закончил Тимирязевку в 1958 году со званием «инженер-экономист сельского хозяйства» и опять устраивался на работу. Я уже в Москве был, у меня жена москвичка была. Кто ко мне пойдет в деревню из испанок? Только русская может пойти. Мы жили очень дружно.
На работу было устроиться трудно, потому что никто не хотел брать людей без гражданства. В те времена все иностранцы были «шпионами империализма». Мне ребята сказали, что есть вакантное место в Министерстве сельского хозяйства РСФСР во внешнеэкономических сношениях.
Я говорю этому директору: «Что это за слово 'сношения'? Должно быть 'связи'! По-русски звучит не очень красиво». «Не-не, это у нас приказ дали, сношения».
Я говорю этому директору: «Что это за слово 'сношения'? Должно быть 'связи'! По-русски звучит не очень красиво». «Не-не, это у нас приказ дали, сношения».
Ну хорошо. Им был нужен испаноговорящий агроном, потому что Куба. Он посмотрел на мои документы и говорит: «Я вас не могу принять, потому что вы не русский, не россиянин». «Ну и что? Я буду россиянин», — говорю. «Не-не, не могу». Потом думал-думал, вышел, побеседовал с кем-то и говорит: «Хорошо, мы вас можем оформить в другой отдел, зарплату будете получать там, а работать будете у нас».
“
Так что я проходил не по внешним связям, а по деревообрабатывающей промышленности, колхозам и так далее. Ну мне наплевать, куда зачислят — лишь бы работать. Потом этот отдел соединили с отделом в другом министерстве, и меня забрали туда. Я числился опять в деревообрабатывающей промышленности. Шпиономания была страшная! Ну и я проработал там почти до пенсии.
“
Так что я проходил не по внешним связям, а по деревообрабатывающей промышленности, колхозам и так далее. Ну мне наплевать, куда зачислят — лишь бы работать. Потом этот отдел соединили с отделом в другом министерстве, и меня забрали туда. Я числился опять в деревообрабатывающей промышленности. Шпиономания была страшная! Ну и я проработал там почти до пенсии.
О работе на Кубе
В 1970 году Фидель заявил, что на Кубе произведут 10 млн тонн сахара. Ну как всегда коммунисты кричат, а потом ничего нет. До этого производили 5 млн тонн, и вот так хватало. Много производить, на самом деле, было невыгодно: занизятся цены на рынке. Я приехал, и меня поставили на перспективное планирование. Но уже лозунг выкинули: «10 млн тонн! Идут! Van! Van! Van!»
Я во всех провинциях организовал группы перспективного планирования. Рассчитывали площадь сахарного тростника и урожай. И у меня получилось не 10 млн тонн, а 7 млн тонн, и мы директору перспективного планирования Instituto Nacional Reforma Agraria дали эти данные. Их передали Фиделю.
И вот Фидель 1 мая выступает и говорит на нас: «Эти недоноски запланировали нам 7 млн тонн, когда мы можем производить 10 млн тонн». И меня выгнали на следующий день с работы.
И вот Фидель 1 мая выступает и говорит на нас: «Эти недоноски запланировали нам 7 млн тонн, когда мы можем производить 10 млн тонн». И меня выгнали на следующий день с работы.
Хотя я приехал по договору. Представляешь? И собрали в итоге 6,5 млн тонн. И то, я думаю, надутые. Фидель сказал: «Но все равно мы победили!». Хотя 6,5 млн тонн. Это надо быть я не знаю, кем. Но я тут же устроился на другую работу. Там был завод, который строил комбайны. Меня туда перевели экономистом, им нужен был экономист по испытанию машин. А я занимался здесь тоже испытанием машин, я знал эту процедуру. И туда я устроился на лучших условиях, чем до этого. Потом вернулись сюда, когда сын должен был идти в 6-й класс.
О работе после перестройки, борьбе с блатом и пьянством
Как пришел Горбачев, на пенсию стали отправлять немножко раньше. Я родился в октябре, а в июне меня уже отправили на пенсию — мне еще не исполнилось 60. И я с тех пор на пенсии, но решил работать. По объявлениям читал, где нужны рабочие. Я же рабочим работал, ну почему бы опять не рабочим? Поступил на комбинат музыкальных инструментов «Лира». Пришел туда и говорю директору: «Я рабочим у вас хочу устроиться, пенсионер». И он говорит: «Хорошо, я тебя устрою рабочим, а потом подумаем».
Я поработал немножко на станке, вдруг он меня вызывает и говорит: «Мансилья, знаешь, что я решил? Тебя перевести в мастера. У тебя же высшее образование. Чего же ты рабочим?» Ну я говорю: «А как же? Я никогда на деревообрабатывающем не работал». «Ничего, научишься», — он так ко мне отнесся великолепно! Устроил меня мастером ширпотреба, для меня это было чудо. Все отходы на заводе через меня проходили, я их продавал. И у меня была группа рабочих, которые из отходов делали разные детали, которые я тоже продавал. Я был продавцом, можно сказать, на заводе.
Пришел Ельцин, в стране по-другому стало. Помню, я уже стоял в очереди за кефиром для ребенка по 2−3 часа, сахара не было, пропали продукты. Хорошо, что я работал тогда на заводе — нам давали продукты по заводам, в цехах по рабочим распределяли курицу, масло, маргарин. Рабочие были довольны, что уж им. Получали не все, что надо, но получали.
Меня избрали председателем цехкома, я распределял эти продукты, никому не доверял и никому не давал распределять без меня. Тут же начиналась халтура, начинался блат, свои, знакомые. Я удивлялся и запрещал: без меня ни одной курицы не раздавать, чтобы я знал, кому надо этих кур. Притом они старались лучшие куски мне давать, а я ругался на них.
Как-то привезли солонину, lomo, так они мне оставили самый лучший кусок. Я говорю: «Кто это сделал?» Все молчат. «Кто оставил самый лучший кусок?» Они: «Не-не, мы же для тебя, ты наш». Я категорически отказывался. В этом отношении русский народ очень удивительный. Блатные. Ну это общество такое создавалось, они не виноваты.
Как-то привезли солонину, lomo, так они мне оставили самый лучший кусок. Я говорю: «Кто это сделал?» Все молчат. «Кто оставил самый лучший кусок?» Они: «Не-не, мы же для тебя, ты наш». Я категорически отказывался. В этом отношении русский народ очень удивительный. Блатные. Ну это общество такое создавалось, они не виноваты.
Помню, когда завод разваливался, не стало отходов. Материал, древесина, уже почти не поступал. Тогда меня сделали мастером тарного цеха. Мы делали тару для пианино, скрипок — всех музыкальных инструментов. Был у меня цех, там человек 9−10, но все детальные рабочие были пьянчуги, алкоголики до конца. Я делал очень просто. Брал бумагу, писал от их имени заявление: «Я такой-то, прошу уволить меня с завода». Они говорят: «Почему уволить?» Я говорю: «Потому что ты напьешься, и я тебя уволю. Мне пьянчуги здесь не нужны».
А они все алкоголики с низшей категорией специальности. Только забивать гвозди могли и больше ничего. Подписывали заявление, в первый раз напьется пьяный — иду в кадры и отдаю. Кадры увольняют. Они на меня ругались, что я их обидел, а я говорил: «Я тебя не обидел, ты сам себя обидел. Не пей — и все в порядке будет». Я не люблю пьяных. Ты можешь искалечить себе руки, потому что у меня были автоматические пистолеты, была пила. Пришел пьяный — уходи домой. Не приходи на работу. И увольняли их запросто. Вот такие меры я принимал.
На заводе была комната, набитая гвоздями до потолка. Я говорю: «Зачем так много гвоздей?» А человек, который был мастером до меня, говорит: «А это запас, на всякий случай». Я: «Зачем тебе на всякий случай? Тебе же лучше брать на складе гвозди, и заводу будет легче жить». Он: «Не-не-не, пускай у меня лучше будет запас». Понимаешь, запас.
Я этот запас уничтожил за неделю и получал гвозди как положено. И директор, помню, мне говорит: «Ты молодец, ты с гвоздями расправился очень быстро». С пьянчугами тем более.
Я этот запас уничтожил за неделю и получал гвозди как положено. И директор, помню, мне говорит: «Ты молодец, ты с гвоздями расправился очень быстро». С пьянчугами тем более.
Это нетрудно, расправляться с людьми. Человек — он же с головой, с мозгами. Если он плохой, значит он плохой до конца. Значит его не надо принимать на работу. Проработал там с 1986 по 1996 год и, когда уходил, директор меня не отпускал. Но началась реорганизация, начали что-то на заводе приватизировать. Мне это не нравилось, и я ушел.
Об Испанском Центре
Исключительно как Испанский Центр это место начало работать в 1993 году. До этого здесь была испанская компартия и при ней Испанский Центр. Надо сказать, компартия нам всегда помогала. Она являлась нашим центром, куда мы ходили жаловаться, просить помощь и так далее. Тут была и Долорес Ибаррури, и Бобадилья тут был. В 1993 перестали платить зарплату — ЦК платила Красному Кресту, Красный Крест платил сюда. Пытались как-то скамуфлироваться, чтобы не жаловались, что это политическая организация. На деле она была политическая, потому что нас тут воспитывали в коммунистическом духе.
Эти испанцы были настоящие фанатики коммунизма! Я помню, один из них меня вызвал и говорит: «Мы тебя сделаем руководителем политического кружка». Я говорю: «Я не хочу, страна разваливается, вы не видите?» «Ты что? Как ты не хочешь? Ты коммунист, ты должен». Но действительно — через некоторое время развалилась страна.
Раньше президентом был Фернандес Альберто покойный, пусть земля ему будет пухом. До него работал Сабедра Альфонсо. Он настоящий эмигрант, который эмигрировал из Испании на Кубу, но на Кубе началась революция, и он перебрался оттуда сюда и устроился тут у нас. Его избрали президентом. Тогда зарплата была неплохая. И помощником ему избрали Альберто, а Альберто меня знал по детскому дому. Он меня вызвал — знал, что я экономист, и позвал бухгалтером работать. Я поработал здесь бухгалтером первые 2 или 3 года. Альфонсо эмигрировал и умер в Испании, а Альберто остался — он президент, я бухгалтер. Альберто умер в 2002 году, и остался я.
Испания всегда финансировала этот коллектив. Платила за электричество, аренду, телефон — все расходы наши оплачивала полностью, даже зарплату давала, даже на похороны выделяли деньги. У нас очень хорошие отношения. В 2010 году заплатили только 6 тысяч евро, это очень мало, мы просим 40 000 евро. А в 2011 году вообще ничего не дали. Мы остались перед правдой: надо закрыть центр, потому что мы не сможем заплатить. Куда нам деться? Потом решили обратиться к народу, собрали всех, кто мог ходить. Решили спасти центр во что бы то ни стало и платить 5 тысяч рублей членских взносов.
Мы празднуем в испанском центре рождество, 1 мая, 9 мая, 8 марта и 12 октября — День Испании, тоже празднуем. Собирается человек по 100 — и внуки, и правнуки. Приходят сюда с друзьями, подругами. Дома мы не собираемся, даже дни рождения и поминки встречаем здесь. Зал, стол, стулья есть. Это здание великолепное, но уже такое старое, что мы даже когда танцуем, боимся, что пол провалится.
О первой поездке в Европу и решении остаться в России
Когда был фестиваль молодежи, я познакомился с одним испанцем, но он приехал из Франции. Он со мной подружился, ко мне ходил домой, обедал и пригласил меня во Францию приехать к нему в гости. Но тогда было сложно, не выпускали, пока в 1956 году не начали разрешать уезжать. Я думаю, единственные иммигранты в России, которые могли выехать, это были испанцы. И то с большими трудностями.
Надо было составить характеристику. Эта характеристика обсуждалась на комиссии пенсионеров-стариков, которую я ненавидел, потому что задавали вопросы просто удивительные. Мне задали один раз вопрос, сколько членов СЭВа. Я посчитал — девять. Нет. И меня не пропустили. Не дали характеристику. Один год я потерял. А оказалось десять — я же Советский Союз забыл включить! Они мне второй раз говорят:
— Сколько?
— Десять.
— Вот теперь правильно. А кого в прошлый раз пропустил?
— Советский Союз.
— Самое главное забыл включить!
И начали меня ругать. Ой, ну что делать. Дали мне разрешение.
— Сколько?
— Десять.
— Вот теперь правильно. А кого в прошлый раз пропустил?
— Советский Союз.
— Самое главное забыл включить!
И начали меня ругать. Ой, ну что делать. Дали мне разрешение.
Я выехал в первый раз во Францию в 1961 году. Я встречался с родителями дома у этого друга в маленьком городке на Средиземном море. Хороший городок, с пляжем, рыбацкий. Лачужки, дома, дворцы — все там есть. Я приехал в Париж, доехал до этого городка, они меня там встретили. Потом приехали мои родители, сестра, братья — все приехали. Я в первый раз встретился с родителями.
Меня удивило, как мой друг мог нас кормить: кормил десять дней каждый день наших мясом, в рестораны водил. Он же был рабочий, столяр. А я в Советском Союзе одного себя не мог прокормить — если бы приехали ко мне, я бы не смог.
Меня удивило, как мой друг мог нас кормить: кормил десять дней каждый день наших мясом, в рестораны водил. Он же был рабочий, столяр. А я в Советском Союзе одного себя не мог прокормить — если бы приехали ко мне, я бы не смог.
Правда у него дома мы не смогли жить — он арендовал нам комнату, но сам платил за нее. Большая комната с тремя кроватями, мы там спали все. Я с братом, сестра с сестрой, мама с папой. Отец у него коммунист до мозга костей, мать тоже. Очень хорошие. Это был удивительный народ, но я потерял их и не могу найти. Я бы сейчас хотел их отблагодарить, у меня есть деньги. Мой сын искал через интернет и тоже не смог найти.
Мы с женой хотели уехать в Испанию, но дело в том, что отец и мать моей жены были настолько в возрасте, что нам было страшно оставлять их одних. Отец потерял зрение. Куда их, в дом для престарелых? Они же там умрут. И мы остались жить здесь с ними, мы всегда жили в одной квартире. Мама умерла первая, сравнительно недавно умер отец. Я уверен: перед богом, если уж верить, мы чисты в этом отношении, потому что за стариком ухаживали до последнего момента. Он к нам очень хорошо отнесся, я когда учился, он нам помогал. У нас всегда был обед, ужин, завтрак, лишь бы мы учились — это для них было самое главное. Как я мог этих стариков бросить?
“
А сейчас куда ехать? У меня в Испании никого не осталось. Братья умерли, отец с матерью умерли, сестры умерли. Никого нет. Остались племянники, но я их не знаю, они меня не знают.
“
А сейчас куда ехать? У меня в Испании никого не осталось. Братья умерли, отец с матерью умерли, сестры умерли. Никого нет. Остались племянники, но я их не знаю, они меня не знают.
О русской и испанской идентичности
Могу ли я сказать, что Россия стала моей родиной? Конечно, да. В Испании я скучаю по России — честно говорю. Потому что там я нигде ни к чему не приколотый. Ездил в деревню бабушки, я там иногда отдыхал, и там меня никто не помнит, никто не знает. Я ходил чужой совсем.
Я ощущаю себя русским, безусловно, но во мне больше испанского, чем русского. Хочу я или не хочу. Ну, а потом я же работаю в Испанском Центре, здесь все говорят по-испански между собой. Это много значит. Я «порчу» себе русский язык, потому что все время говорю здесь по-испански. Мой сын говорит хорошо по-испански. Два внука в Германии, а внучка здесь в Москве в институте учится. Она очень умная, с испанским она запросто. Иногда я удивляюсь: скажу ей одно слово, и она запоминает на всю жизнь. Она не говорит, но понимает почти все.
Мы каждый год ездим в Испанию, нам эти поездки абсолютно бесплатны — платим только за такси от аэропорта до дома. Я всегда обязательно остаюсь на 3−4 дня в Мадриде. Гуляю по моим детским местам. Это чудо такое — все сохранилось.
У меня брат удивлялся, что я помню любой переулок. Я говорю: «Ты видишь каждый день это, тебе наплевать. А мне нет — я сохранил все в памяти».
У меня брат удивлялся, что я помню любой переулок. Я говорю: «Ты видишь каждый день это, тебе наплевать. А мне нет — я сохранил все в памяти».
Я считаю, сохранить испанскую идентичность помогла компартия Испании, хотя многие этого не признают. Потому что она содержала нас, являлась объединительным центром всех испанцев Советского Союза. Хотели мы, не хотели — всегда обращались к ним, если потребуется что-то, любой вопрос решали через них, и они нам помогали. Об этих людях ничего плохого не могу сказать. Единственное плохое — они категорически были против, чтобы мы возвращались на родину. Но это политика.
Что-то есть общее между русскими и испанцами, трудно сказать, но есть. Испания и Россия — они же край Европы. И этот влияет на характер людей, как в России, так и в Испании. Ну, Россия считает, что она держава великая, а Испания нет. Я скажу, хоть и ругают Франко, но Франко поднял страну — он развил туризм. Там, где были рыбацкие поселки, построили огромные гостиницы. Испания живет за счет туризма, и это благодаря Франко. Ну, до Франко был Примо де Ривера, тоже думал о туризме. Испания зарабатывает своими пляжами и своим климатом хорошие деньги. Но сейчас очень тяжело в Испании, много безработных. Ну, ничего, терпят. Потому что в Испании очень большая взаимовыручка. Семья. В семье помогают детям, дети помогают родителям.
“
Вот поэтому в Испании нет детских домов — никому не позволено выбросить ребенка или в детский дом сдать. Ну, бывают случаи, наверное, какой-то сирота, и то забирают его.
“
Вот поэтому в Испании нет детских домов — никому не позволено выбросить ребенка или в детский дом сдать. Ну, бывают случаи, наверное, какой-то сирота, и то забирают его.
О проблемах России
Меня потрясло на днях ток-шоу «Пусть говорят». Показывали, как девица убила своего сына — родила и убила ребенка. Это в России, в Испании такого не случилось бы. Но здесь случается, потому что люди в отчаянии во многих местах, в особенности в деревнях и в городках, где нет работы. Но виновата не она, об этом не говорят. Виновато государство.
Если бы у нее были перспективы, осознание, что ей помогут, что дети у нее не погибнут, будут жить хорошо и так далее — она бы не убила. Но она боялась, во-первых, что будут показывать на нее пальцем, что она родила без мужа. Во-вторых, что у нее нет денег на прокорм этого ребенка, что она не сможет заработать. А если сможет, то еле-еле прокормит. Тут никто не хочет знать о ней. Это трагедия. Это же показывает лицо нашей страны. Эта девушка уничтожила, убила своего ребенка, но она в безысходном положении находится.
Я считаю, что Россия страдает от военных расходов. Не будет военных расходов — все будет великолепно в России. И дети будут накормлены, и матери смогут рожать безбоязненно за будущее своих детей. Пока не начнут строить дома не для военных, а для народа, здесь жить будет плохо. Я приехал в Испанию, у меня братья без высшего образования, а у меня высшее образование, но они живут в десять раз лучше, чем я, если не в сто.
Я считаю, что Россия страдает от военных расходов. Не будет военных расходов — все будет великолепно в России. И дети будут накормлены, и матери смогут рожать безбоязненно за будущее своих детей. Пока не начнут строить дома не для военных, а для народа, здесь жить будет плохо. Я приехал в Испанию, у меня братья без высшего образования, а у меня высшее образование, но они живут в десять раз лучше, чем я, если не в сто.
Здесь 80 лет коммунисты строили и ничего не построили, ничего кроме военного. Пусть он меня извинит, земля ему будет пухом, умер недавно конструктор ракет, было 100 лет почти ему. И говорят: «Великий человек». Какой он великий? Он же ничего не дал стране. Я понимаю, когда умер в Саратове от голода великий агроном Вавилов — коммунисты уничтожили великого ученого в тюрьме. Вот вчера показывали самолет новый СУ, который может лететь 4000 км без дозаправки. Если бы мне сказали, что создали машину, которая может пробежать без заправки 4000 км, я бы хвалил Россию. Ну, а что самолет? Кому он нужен? В случае войны?
Ведь у нас огромный арсенал ядерных и других бомб. Мы можем всему миру сказать: «Нас не трогайте, мы не трогаем никого». Страна напичкана ядерными бомбами до потолка, больше некуда. Теперь надо за ними ухаживать, огромные деньги тратят. На них можно было бы построить дома хорошие в деревнях, чтобы люди жили хорошо, можно было бы механизировать сельское хозяйство.
Кого лучше кормить? Армию или детей? Конечно, выгоднее кормить детей — это будущее страны. Без них тут ничего не станется.
Кого лучше кормить? Армию или детей? Конечно, выгоднее кормить детей — это будущее страны. Без них тут ничего не станется.
Я не голосую за Путина и Медведева, потому что они за военных. Это я открыто говорю. Понимаете, надо думать о людях. Это самое главное. Я понимаю, что коммунисты сделали из страны военный лагерь — весь рабочий класс работает на военных заводах почти. Если сейчас сократить военные расходы, то безработица будет огромная. Этого нельзя делать. Надо потихонечку, но начинать надо.
А ведь можно было построить коммунизм, можно! Я уверен в этом. Я был коммунистом и буду всегда коммунистом. Пионеры, октябрята — все готово было. Шло воспитание людей в духе, что ты не эгоист, а что для общества хочешь блага. Все это готовилось, но рухнуло. Страшно подумать, сколько людей погибло — миллионы людей погибли ради строительства коммунизма.
У меня жена, когда мы приехали в Испанию и зашли в продовольственный магазин, заплакала. Какие там товары, какое количество там сортов сыров, колбас, ветчин. А я говорю: «Что ты плачешь? И в России тоже так будет, когда будет коммунизм». Мы верили, еще как верили.
У меня жена, когда мы приехали в Испанию и зашли в продовольственный магазин, заплакала. Какие там товары, какое количество там сортов сыров, колбас, ветчин. А я говорю: «Что ты плачешь? И в России тоже так будет, когда будет коммунизм». Мы верили, еще как верили.
Ленин до сих пор лежит в мавзолее. Как может лежать убийца, человек, который уничтожал тысячи людей? Там дети были, как же можно расстреливать детей? И до сих пор он лежит в мавзолее, эта тухлятина, которую надо выкинуть оттуда. Ну, о Сталине я не хочу говорить. Сталина бюст стоит у кремлевской стены. Я плевался, когда там в последний раз был. Ну, они друг друга стоят. Российский народ ненормальный в этом плане. В Испании вы нигде не увидите памятник Франко, а тут везде Ленин с рукой стоит. Ну вот куда он показывает рукой?
“
Русские люди терпят. Сколько терпели крепостное право — отменили только в 1861 году, и то не революцией, как во Франции или в Испании и в других странах, а указом царя. Так что я за страну переживаю больше, чем русские, хотя я не русский. Я не русский, я россиянин.
“
Русские люди терпят. Сколько терпели крепостное право — отменили только в 1861 году, и то не революцией, как во Франции или в Испании и в других странах, а указом царя. Так что я за страну переживаю больше, чем русские, хотя я не русский. Я не русский, я россиянин.
Контакты
Интервью © Анна Граве
Фото © Михаил Платонов
Фото © Михаил Платонов