Бланка Аргуэллес Гутьеррес
Родилась в Лангрео. Вернулась в Испанию в 1956 году.
Когда мы приехали в Испанию, моя сестра умерла, и моя мать осталась одна с двумя внуками — одному было 6 лет, а второму 8 лет. Я скажу тебе одно и думаю, что 95% репатриированных скажут то же самое. Это моя мама, я ее дочь, я чувствую, что она меня любила, но для нее важнее были дети моей сестры. Я уже второстепенная. Для нее мои племянники как дети, а мои дети — она любила их — но тоже второстепенно. И я, как маму мою, ее любила. Моя мама была рада и хотела, чтобы я приехала. Но вот эта близость матери и дочери отсутствовала.
Родилась в Лангрео. Вернулась в Испанию в 1956 году.
Когда мы приехали в Испанию, моя сестра умерла, и моя мать осталась одна с двумя внуками — одному было 6 лет, а второму 8 лет. Я скажу тебе одно и думаю, что 95% репатриированных скажут то же самое. Это моя мама, я ее дочь, я чувствую, что она меня любила, но для нее важнее были дети моей сестры. Я уже второстепенная. Для нее мои племянники как дети, а мои дети — она любила их — но тоже второстепенно. И я, как маму мою, ее любила. Моя мама была рада и хотела, чтобы я приехала. Но вот эта близость матери и дочери отсутствовала.
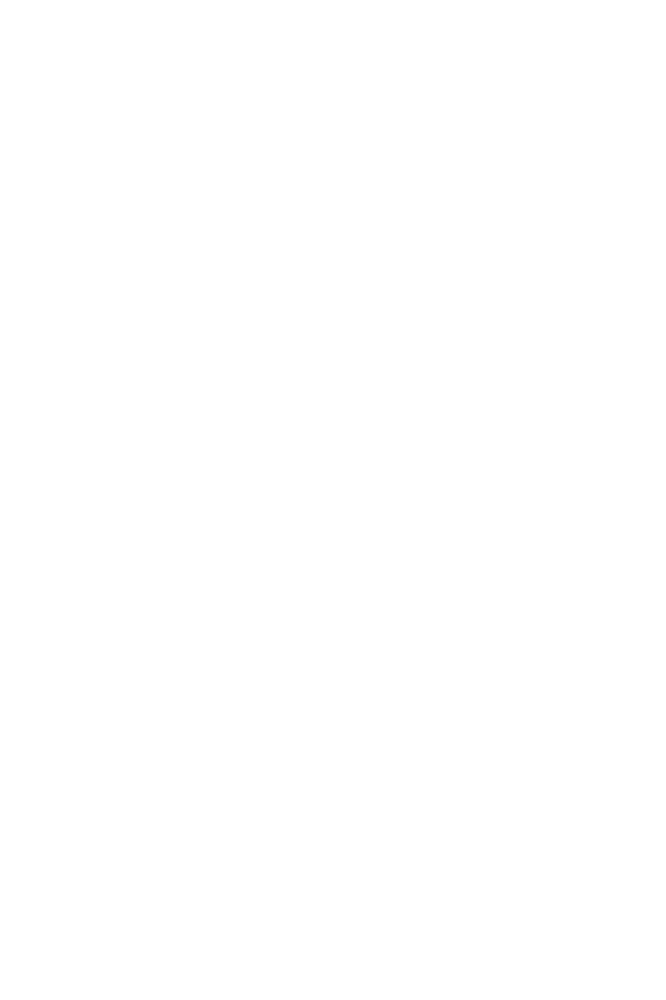
Бланка Аргуэллес Гутьеррес
Родилась в Лангрео. Вернулась в Испанию в 1956 году.
Когда мы приехали в Испанию, моя сестра умерла, и моя мать осталась одна с двумя внуками — одному было 6 лет, а второму 8 лет. Я скажу тебе одно и думаю, что 95% репатриированных скажут то же самое. Это моя мама, я ее дочь, я чувствую, что она меня любила, но для нее важнее были дети моей сестры. Я уже второстепенная. Для нее мои племянники как дети, а мои дети — она любила их — но тоже второстепенно. И я, как маму мою, ее любила. Моя мама была рада и хотела, чтобы я приехала. Но вот эта близость матери и дочери отсутствовала.
Родилась в Лангрео. Вернулась в Испанию в 1956 году.
Когда мы приехали в Испанию, моя сестра умерла, и моя мать осталась одна с двумя внуками — одному было 6 лет, а второму 8 лет. Я скажу тебе одно и думаю, что 95% репатриированных скажут то же самое. Это моя мама, я ее дочь, я чувствую, что она меня любила, но для нее важнее были дети моей сестры. Я уже второстепенная. Для нее мои племянники как дети, а мои дети — она любила их — но тоже второстепенно. И я, как маму мою, ее любила. Моя мама была рада и хотела, чтобы я приехала. Но вот эта близость матери и дочери отсутствовала.
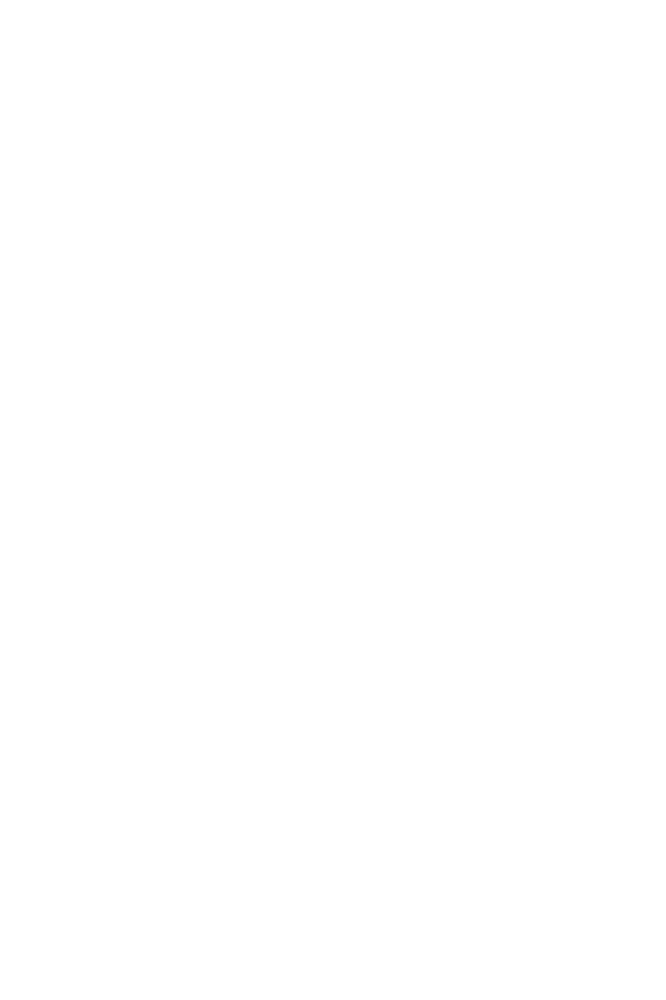
О первых годах после возвращения в Испанию
Мы приехали в 1956 году. C мужем поженились в Советском Союзе, он умер 18 лет назад. У меня 6 детей — 5 мальчиков и одна девочка. Три советских [родились в СССР], три испанских. Мой муж Хосе Антонио был баск, из Бильбао. Когда мы приехали, старшему сыну было 7, младшему 5. А дочь родилась 9 мая, только в 1953 году, и мы назвали ее Виктория. Дети говорили по-русски и, когда приехали в Испанию, испанского не знали. Но надо было отправлять их в школу. Школа была при фабрике, где работал муж, и мои ребята начали туда ходить. У меня есть видеозаписи, где они в детстве говорят по-русски.
Нам дали квартиру в маленьком шахтерском городке. Мы жили на первом этаже. Мимо проходили монашки, они протягивали ребятишкам на улице крест, и они его целовали. Моя дочь, три годика, играла на улице на тротуаре, увидела, что все ребята целуют крест, и тоже поцеловала. А сын пятилетний в это время сидел на подоконнике внутри, по-испански только пару слов знал, увидел это и кричит ей: «Поросенок-поросенок! Что же ты этот крест целуешь? Ведь все люди его целуют, а может быть, кто-нибудь из них больной и ты заболеешь!»
Я приехала не в Мадрид, а в шахтерский рабочий городок. Здесь нет культуры в такой форме, как в России. Там самые лучшие театры, балерины. В Испании культура — это религия.
Я приехала не в Мадрид, а в шахтерский рабочий городок. Здесь нет культуры в такой форме, как в России. Там самые лучшие театры, балерины. В Испании культура — это религия.
Один раз мой семилетний сын играл с другом. К ним подошли из секретной полиции и спросили «Где деньги? Где вы их спрятали». Они ответили: «Не знаем, нет никаких денег». И тогда их забрали в участок. Так, конечно, пытались запугать моего мужа, всю семью, показать вседозволенность. К репатриированным постоянно приставала полиция. Искали что-то, чтобы наказать.
Об аресте мужа
Ты не знаешь, сколько мы страдали. Через два или три года после того, как мы приехали, моего мужа посадили в тюрьму в Овьедо. Потом, когда он вышел, стал работать на металлургическом заводе ENSIDESA. Когда на заводе рабочие устраивали забастовку, на фабрику приходила полиция.
Полицейский знал моего мужа еще по тюрьме и кричал: «Что ты тут делаешь? Это не твое место!». А муж отвечал: «Это мое место, потому что я хочу бороться, чтобы мои дети имели школу, что поесть и что надеть». Первая фамилия мужа Ortiz de Guimera, а вторая Aranda. Потому что его происхождение благородное, nobleza. И поэтому ему полиция говорила: «Это не твое место».
На 1 мая здесь всегда была коррида или футбол, чтобы не устраивали демонстрации и 1 мая моего мужа специально задерживали, чтобы не устраивали манифестации.
На 1 мая здесь всегда была коррида или футбол, чтобы не устраивали демонстрации и 1 мая моего мужа специально задерживали, чтобы не устраивали манифестации.
Когда мужа посадили в тюрьму, его приехали задерживать в 12 часов ночи. Тогда не было ни телевизора, ничего такого, мы ложились спать рано. Я убиралась на кухне и мыла посуду. Слышу, стучат.
— «Кто там?»
— «Откройте, полиция».
Ночью! Я пошла, открыла и первое, что у меня вышло изо рта — 20 лет жила в Советском Союзе, никто мне не посмел мешать, а тут два года живу, и не только мешают — приходят, когда все дети спят, ночью. И полицейский мне сказал: «Que te den una hostia!» Hostia — это облатка. Мой муж поднялся и говорит ему: «Запомните, que las hostias rebotan».
— «Кто там?»
— «Откройте, полиция».
Ночью! Я пошла, открыла и первое, что у меня вышло изо рта — 20 лет жила в Советском Союзе, никто мне не посмел мешать, а тут два года живу, и не только мешают — приходят, когда все дети спят, ночью. И полицейский мне сказал: «Que te den una hostia!» Hostia — это облатка. Мой муж поднялся и говорит ему: «Запомните, que las hostias rebotan».
Они искали пропаганду и окружили весь дом, выворачивали все. Кухни были огненные, с углем. Они выбрасывали мусор, переворачивали шкафы. Хотели зайти в комнату, где спали ребята, но муж сказал: «Сюда идти я запрещаю. Здесь дети спят, вы должны их уважать». На следующий день меня вызвали в полицию, policia secreta.
Полицейский спрашивает: «Ты почему на эти портреты на стене смотришь? Почему ты на меня не смотришь? Я с тобой разговариваю». Я говорю: «Мне этот портрет больше нравится, чем твое лицо». Не знаю, как меня не забрали тогда. У меня был приколот значок с Лениным. «Кто это?» — спрашивает. Я говорю: «Мой дядя».
Полицейский спрашивает: «Ты почему на эти портреты на стене смотришь? Почему ты на меня не смотришь? Я с тобой разговариваю». Я говорю: «Мне этот портрет больше нравится, чем твое лицо». Не знаю, как меня не забрали тогда. У меня был приколот значок с Лениным. «Кто это?» — спрашивает. Я говорю: «Мой дядя».
Для них коммунист был хуже черта. Местные полицейские искали пропаганду, но сами вообще не понимали ни что такое коммунизм, ни как что выглядит. Говорили, что в Советском союзе у коров нет хвостов, что нам делали рубашки и платья из старых занавесок. А народ здесь был такой неграмотный. У нас Астурия считалась одним из самых грамотных регионов, не считая, конечно, Мадрид. Вот моя мать умерла в 91 год, я приехала, она читала и писала, но без многих знаков препинания. Но Галисия, Андалусия — неграмотные-неграмотные.
О расстреле отца, аресте матери и заключении сестры в концентрационный лагерь
Моего папу убили. Я всегда была его «сокровищем». Моя двоюродная сестра рассказывала, что он так страдал [из-за того, что не знал о моей судьбе в Советском Союзе]. Писал моим бабушке с дедушкой и в письмах говорил: «Ничего не знаю про мою маленькую». И он умер, ничего так и не узнав, потому что не было связи. Письма писать не разрешали.
Когда началась война, моего отца искали по всей Астурии, потому что он был секретарем коммунистической партии. Посадили мою мать в тюрьму, потому что она не хотела говорить, где он. А он был в горах с братом, а потом пошел в дом своих родителей скрываться, но его, наверное, выдали. И тут приходит guardia civil. Они хотели выпрыгнуть из окна, но не успели. Брат моего отца услышал, что они уже прямо в комнате. Моего отца взяли, а дядя смог убежать.
Моей сестре тогда было 15−17 лет, ее взяли и повели в концентрационный лагерь в Галисии. Концентрационные лагеря строили прямо на пляже. И там моя сестра заболела. Ее выпустили, но она уже была больная. Замуж вышла и умерла. А ведь вообще в детстве всегда больная была я, а моя сестра — здоровая-здоровая. Но умерла она, а не я.
Моей сестре тогда было 15−17 лет, ее взяли и повели в концентрационный лагерь в Галисии. Концентрационные лагеря строили прямо на пляже. И там моя сестра заболела. Ее выпустили, но она уже была больная. Замуж вышла и умерла. А ведь вообще в детстве всегда больная была я, а моя сестра — здоровая-здоровая. Но умерла она, а не я.
Мой отец лежит в братской могиле в Овьедо. При Франко он попал в тюрьму и оттуда часов в 3−5 утра их c другими заключенными вывозили на фургоне и расстреливали. Брали за ноги, проносили несколько метров и бросали в яму, без гроба, одного на другого. И сверху щелочь. А на следующий день поверх них еще людей, и еще. Пока не кончалось место.
1 ноября в у нас праздник в Испании, праздник мертвых. В этот день все люди несут на кладбище цветы. Я несу ему цветы в два места: туда, где его расстреляли, и туда, где он лежит. И потом второй раз хожу 14 апреля — в день Испанской Республики. Мы кладем знамя республиканское. Там на стенках памятника имя, фамилия, место жительства и сколько лет всем, которые там лежат. Отец — это моя любовь. 40 лет было ему.
“
Брат моего отца ушел в горы, его с товарищем поймали и расстреляли. Но жена и дочь моего дяди до сих пор не знают, где он похоронен. И так много-много людей не знают, где похоронены их родные. В Астурии сбрасывали живыми в шахту. Они там умирали без еды и без воды.
“
Брат моего отца ушел в горы, его с товарищем поймали и расстреляли. Но жена и дочь моего дяди до сих пор не знают, где он похоронен. И так много-много людей не знают, где похоронены их родные. В Астурии сбрасывали живыми в шахту. Они там умирали без еды и без воды.
О жизни в Советском Союзе
Мне было 8 лет, я была слабенькая. Приехали в Советский Союз в ноябре месяце, и у меня началась скарлатина, потом другая болезнь. Если бы я осталась здесь, меня бы на этом свете не было, я уже была бы под землей. Моя сестра была старше на 3−4 года и должна была поехать со мной, но в итоге она сказала: «Нет, я не поеду».
В Союзе меня отправили в Детский дом № 1, станция Правда. В детском доме мы ставили спектакли, декламировали сказки, «Репку», например. Одно стихотворение я декламировала про нас:
… Плакал жалобно по ночам,
Но ни моря, ни пальм красивых он в Артеке не замечал.
Вынет карточку в черной раме -
Мамы теплый, родной портрет —
Говорит по-испански: «Мама», только мамы на свете нет.
Небо было таким же чистым, в море плавали корабли.
Ворвались в село фашисты, пулеметами всё сожгли.
Черной молнией дом повален, мамы нет, куда же идти?
Но позвал его добрый Сталин: «Приезжай, и у нас расти!»
Пароход с полосатым флагом к нам испанских ребят привез,
Чтоб в Артеке под Аю-Дагом смуглый мальчик счастливым рос.
Он привык, подружился с нами, перестал как зверек смотреть,
Меньше стал тосковать о маме, начал песни ребятам петь.
Как-то утром, когда лежали мы на камушках на песке,
К нам дежурная прибежала с телеграммою в руке
Телеграмма, как белый голубь, упорхнет, улетит назад.
Педро встал загорелый, гордый, окруженный толпой ребят.
Тихо дрогнула телеграмма, будто ожили в ней слова.
Педро крикнул: «Ребята, мама! Мама моя жива!»
Но ни моря, ни пальм красивых он в Артеке не замечал.
Вынет карточку в черной раме -
Мамы теплый, родной портрет —
Говорит по-испански: «Мама», только мамы на свете нет.
Небо было таким же чистым, в море плавали корабли.
Ворвались в село фашисты, пулеметами всё сожгли.
Черной молнией дом повален, мамы нет, куда же идти?
Но позвал его добрый Сталин: «Приезжай, и у нас расти!»
Пароход с полосатым флагом к нам испанских ребят привез,
Чтоб в Артеке под Аю-Дагом смуглый мальчик счастливым рос.
Он привык, подружился с нами, перестал как зверек смотреть,
Меньше стал тосковать о маме, начал песни ребятам петь.
Как-то утром, когда лежали мы на камушках на песке,
К нам дежурная прибежала с телеграммою в руке
Телеграмма, как белый голубь, упорхнет, улетит назад.
Педро встал загорелый, гордый, окруженный толпой ребят.
Тихо дрогнула телеграмма, будто ожили в ней слова.
Педро крикнул: «Ребята, мама! Мама моя жива!»
Я научила свою маленькую внучку Маите, которая умерла, этому стихотворению. Кристина, другая внучка, помнит — Ладушки-ладушки, где были у бабушки. Что ели? Кашку! Что пили? Бражку!
Война началась летом. Мы были на улице, сидели и смотрели, как наши ребята играют в футбол, и вдруг по радио услышали, что началась война, ровно в 4 часа 22 июня.
Война началась летом. Мы были на улице, сидели и смотрели, как наши ребята играют в футбол, и вдруг по радио услышали, что началась война, ровно в 4 часа 22 июня.
Несколько дней спустя нас отправили на пароходе по Волге в Куккус. В Куккусе жили немцы, какие они имели огороды! Арбузы, дыни. Но их отправили в Сибирь, потому что по ночам, видно, кто-то делал знаки немецким самолетам. Нас туда перевели, но в Куккусе я жила мало, потому что больных детей детского дома № 1 и № 5, басков, отправили в Алексеевку, тоже на Волге. Я там жила до конца войны.Потом детей из моего Детского дома № 1, кто был в Куккусе, отправили в Болшево под Москвой, а меня — в новый детский дом под Солнечногорск. Потом я училась в агрономическом техникуме, вышла замуж, мы начали работать.
Об астурийцах и испанском характере
Антонио Мачадо говорил, что Испания — страна быков и бубнов, «torros y panderetas». Но это неправда, поведение очень разное. Баски сейчас сжигают автобусы, банки, а у нас такого нет. Но баски любят больше всех астурийцев. В Мадриде тоже больше всех любят астурийцев — они говорят, что если ты приедешь в Астурию и захочешь узнать, где какое-нибудь здание или учреждение, ты спроси любого астурийца, он всегда доведет тебя прямо до места. Каждая провинция имеет свой характер. Самая хорошая — наша.
Говорили, что мы, испанцы, — как грачи. Сейчас уже мало, а раньше когда кто-то умирал, все одевались в черное, даже ребятишки. Поэтому испанцы как грачи. Русские очень мягкие в речи, suave, а испанцы говорят, как пулеметы. На фабрике работали русские и испанцы, приходил директор и самое первое, что говорил, когда обращался к испанцу: «Когда успокоитесь, начнем разговор».
Об отношении к СССР
Мы жили другой жизнью — капиталистов не было, все было народное. Когда говорят что-то плохое про СССР [репатриированные], я вспыхиваю. Предатели, traidores! Потому что это люди неблагодарные. Советский народ сделал все, что мог. Во время войны все голодали. Мне даже хотелось плакать. Нас кормили, дали учебу. А ты говоришь, что в СССР плохо ели? Когда говорят плохо про Союз [те, кто там не был], первое, что я спрашиваю «Ты был там?» Нет, ты не знаешь, ты только слышал. А я там была и тут. Тебе не нравятся мои идеи? Дело твое. Но я могу сказать, где, что и как.
Конечно, Советский Союз делал ошибки. Первая Советская страна была, не с кого брать пример. Они строили и ошибались, это понятно. Вокруг были одни враги. Америка дошла до того, что когда мы приехали, моего мужа отправили в Мадрид, и его там неделю допрашивало ЦРУ. Кто на какой фабрике и кем работал, сколько было людей, что там производили. Были traidores, которые все рассказывали, но таких было мало.
“
Да, Сталин убил много тысяч людей. Да, это большая ошибка. Но для меня он молодец, лично для меня. Потому что нас хотели усыновить, и он сказал, что нет — мы рано или поздно должны вернуться в свою страну, там у нас родители. И он не допустил.
“
Да, Сталин убил много тысяч людей. Да, это большая ошибка. Но для меня он молодец, лично для меня. Потому что нас хотели усыновить, и он сказал, что нет — мы рано или поздно должны вернуться в свою страну, там у нас родители. И он не допустил.
Контакты
Интервью © Анна Граве
Фото © Михаил Платонов
Фото © Михаил Платонов